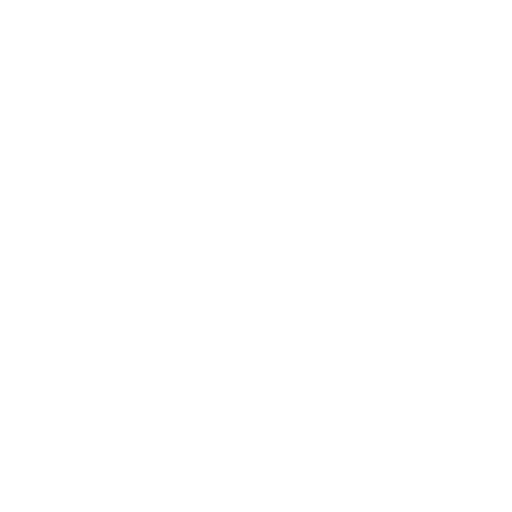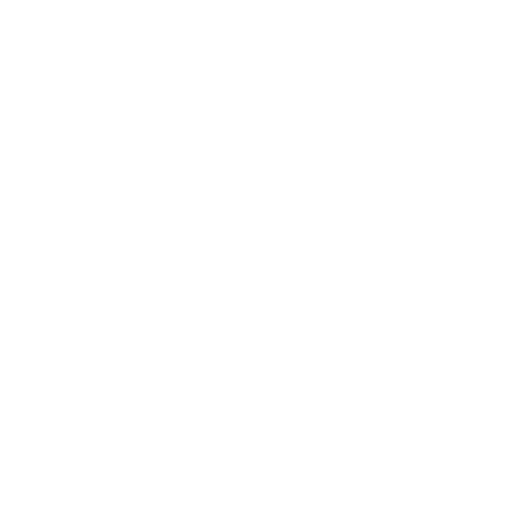Когда началась Великая Отечественная война, чуткое восприятие ребёнка уловило резкую перемену в поведении и настроении взрослых. Их вниманием завладела круглая тарелка радиоточки, которая висела на стене и постоянно была включена. Из неё звучали взволнованные речи, тревожная музыка, диктор чеканил каждое слово важных правительственных сообщений. Взрослые горячо обсуждали услышанное, а бабушка утирала слезы и восклицала: «Бедный-бедный мальчик. Что же теперь с нами будет?!»
В моё сознание, как занозы, впивались слова: война, фашисты, оккупанты, бомба, воздушная тревога и др. Затем, как шершавая противная гусеница, заползло слово «эвакуация». Впервые его произнесла мать, придя с работы. Затем оно как будто повисло в воздухе. Люди срочно стали покидать город, чтобы не попасть в лапы захватчиков.
Мои бабушка и тётя нарезали из газет длинные полосы, разводили из муки клейстер и с его помощью наклеивали их крест-накрест на оконные стекла. Я вертелся между ними, пытался включиться в процесс, но только испачкался в мучной клейкой массе.
Вечером окна плотно завешивались одеялами и светонепроницаемыми тканями. Если ночной патруль замечал хотя бы полоску света, то имел право стрелять без предупреждения по окнам. Город готовился к воздушным налётам, и они вскоре начались.
Возле выхода из квартиры на стуле появилась холщовая сумка с вещами первой необходимости и продуктами. По сигналу воздушной тревоги вместе с ней следовало без промедления спускаться в укрытие.
Вначале таким укрытием являлась парадная лестница в нашем трёхэтажном доме. Мы прятались под её последним маршем на первом этаже. Затем, когда котельную в подвальном помещении переоборудовали под временное бомбоубежище, мы спускались туда.
Непрерывный вой сирен возвещал об авианалёте. К нему присоединялись гудки паровозов на станции. Из репродукторов разносилось: «Граждане, воздушная тревога!»
Отбомбившись, самолёты улетали, и прерывистые гудки сигнализировали отбой — опасность миновала. Наступала передышка. Но радость от неё была мимолётной, так как всеобщая беда немецкого нашествия накатывалась неотвратимым страшным катком.
Бомбёжки города усилились. Однажды череда налётов не прекращалась весь световой день.
— Да что они, проклятые, без перерыва на обед бомбят?! — возмущалась бабушка. — Может, нам в подвале окончательно обосноваться?
Сосед по коммунальной квартире мрачно разъяснял, что бомбят город разные эскадрильи, сменяя друг друга.
По своему малолетству опасность я мог оценить на уровне чувственном: горячо, холодно, больно — ближе к животным инстинктам, и не воспринимал ту, которая витала вне моего зрения, слуха и обоняния. Я злился и капризничал, когда меня при объявлении воздушной тревоги отрывали от игрушек или ото сна и тащили насильно из светлой комнаты в тёмный подвал.
В очередной раз помимо воли я оказался в бомбоубежище. Под потолком тускло светила электрическая лампочка, вдоль стен стояли лавки, на которых тесно сидели люди не только из нашего дома, но и из соседних одноэтажных. На полу были положены деревянные трапы, под ними хлюпала вода. Меня заинтересовала доска возле выхода, и я стал разглядывать прикреплённые к ней лопату, лом, топор, странное ведро с коническим дном. Люди сидели молча и со страхом поглядывали на потолок, бабушка тихо читала молитву. Все напряжённо прислушивались к звукам, долетающим в подвал извне. А наверху ухало так, что ходуном ходила земля. После близкого взрыва авиабомбы электрическая лампочка погасла. Кто-то из женщин заголосил, заплакали дети.
— Тихо, без паники! — раздался повелительный мужской голос. Вскоре мужчина зажёг керосиновую лампу. Фитиль её разгорался неровно, так что по стенам и потолку заметались мрачные тени.
Нашу соседку Марию Михайловну, которую я звал Мухана, била дрожь, как при ознобе. Она сидела рядом и толкала меня ногой. Мне хотелось покинуть тёмный подвал, вдохнуть наверху свежего воздуха и увидеть вражеские самолёты.
Мухана при каждом бомбовом ударе, чтобы заглушить собственный страх, громко восклицала: «Вовочка, не бойся — это лёд на Дону взрывают!» Я не мог оценить всю нелепость подобного успокоения, так как ещё не знал о том, что во время ледохода перед автомобильным и железнодорожным мостами взрывают торосы льда, чтобы уберечь опоры от разрушения. И к тому же о каком льде могла идти речь в августовскую жару на дворе?!
Вдруг громыхнуло так, что задвигались стены дома, вроде как он собрался сорваться с места наутёк. Со стен и потолка посыпалась штукатурка. Воздушная волна загасила лампу, и всё вновь погрузилось во мрак. На зубах заскрипела пыль, резко запахло гарью и чем-то едко-противным. С улицы послышался грохот обвала и истошные крики. Бомба упала в рядом стоящий дом.
Общий вопль сотряс своды подвала, а затем наступила мёртвая тишина, как перед погибелью. «Вот это лёд!» — неожиданно нарушил её мой удивлённый возглас. Спокойное восклицание ребёнка в один миг вернуло всех в реальность: пронесло! Все живы!
Люди задвигались, кто-то облегчённо засмеялся, и всем стало неловко перед малышом за свой животный испуг и потерю самообладания.
Мужчина вновь зажёг керосиновую лампу и сказал, что я малец-молодец.
Вскоре объявили отбой, и люди устремились наверх.
Мои чувства были взлохмачены и напряжены до предела от увиденного и услышанного, и я готов был расплакаться.
Мария Михайловна от радости, что осталась жива, принялась неистово осыпать мою голову поцелуями. Я изо всех сил воспротивился её ласкам и зло закричал: «Мухана, я сижу никого не трогаю — не люби меня!» Бабушка взяла меня на руки и понесла к выходу. И тут я дал волю душащим эмоциям — заревел во всю ивановскую.
Закончился ещё один день войны. А сколько их было впереди: с бомбёжками, артобстрелами и пожарами, смертями родных и близких, голодом, холодом, оккупацией и разрухой!
С тех пор утекло много дней, лет и десятилетий. И, когда память вновь возвращает меня, пожилого человека, к грозным событиям Великой Отечественной войны, перед моим внутренним взором возникает котельная старинного ростовского дома, набитая напуганными людьми, слышится грохот бомбёжки и горький безутешный плач ребёнка о загубленном детстве, которое украли фашисты у моего поколения — детей войны.
 7,5 м/c
7,5 м/c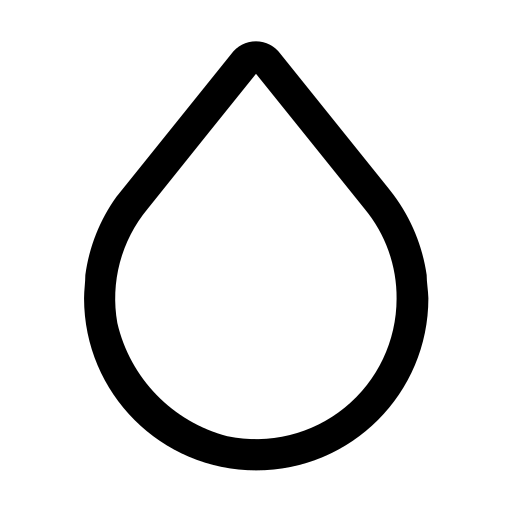 59%
59%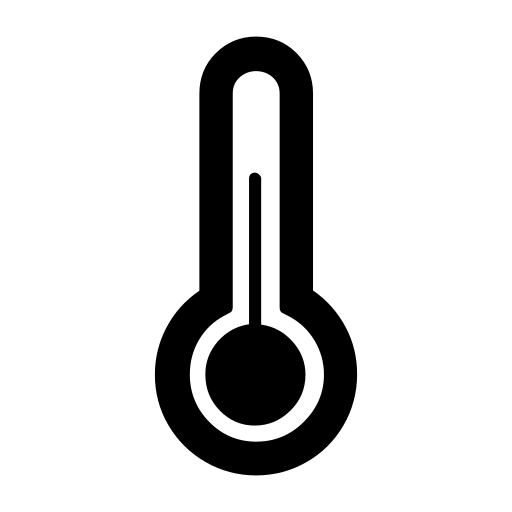 763 мм рт. ст.
763 мм рт. ст.