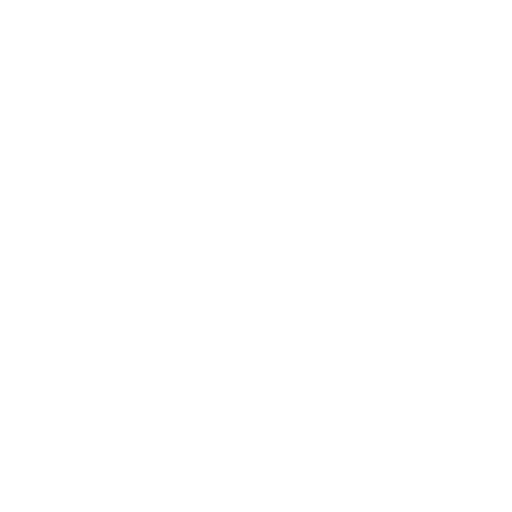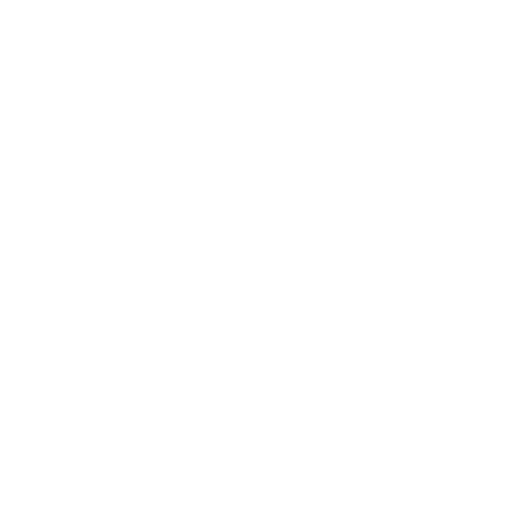В многоквартирной коммуналке старинного дома на площади пять квадратных метров проживала Месняева Клавдия Валериановна. Её комната располагалась рядом с общей кухней, ванной и туалетом. И можете себе представить, какое столпотворение происходило по утрам, когда в эту зону устремлялись взрослые и дети. Неистребимые запахи приготовляемой пищи пропитали комнату Месняевой, в которой помещались кровать с панцирной сеткой и металлическими спинками с набалдашниками, маломерный письменный стол, над ним на стене книжная полка. С потолка свисал абажур, каркас которого был изготовлен из толстой проволоки, обтянутый материей. Дополнял гарнитур платяной шкаф с полками для посуды. В одном углу комнаты под потолком — икона, а в другом — чёрная тарелка радиоточки.
Одевалась хозяйка квартиры весьма старомодно, как персонаж из журнала мод начала 20-го века. Моя бабушка была на пятнадцать лет старше Месняевой и называла её ласково Клавочкой, а та уважительно — Зоей Ивановной. А между тем Клавочке было около пятидесяти лет. Близкие по духу и образованию, женщины приятельствовали. Лицо у Месняевой было непривлекательное, мясистое, оправдывающее фамилию. Седые локоны ранее каштановых волос, казалось, никогда не знали, что такое причёска. И только серые глаза её светились добротой и умиротворением. Жильцы дома от мала до велика с подачи моей бабушки также за её спиной называли соседку Клавочкой, с неким превосходством. Она виду не подавала, что знает об этом, и не обижалась. Дома и на работе её считали белой вороной. Месняева служила простой канцеляристкой в областной конторе «Заготзерно». Она отлично владела письменно и устно русским языком, и все отчёты, запросы, служебные письма проходили стилистическую и смысловую правку её рукой. В министерстве её начальника ставили в пример за образцовую постановку работы со служебными бумагами. Однако он публично не хвалил Месняеву, чтобы та не ослабила свою рьяность в работе, и только зорко следил за тем, чтобы её фамилию не включили в список лиц при очередном сокращении штата. Клавдия Валериановна свободно читала и изъяснялась по-французски. Но в то время владение иностранными языками не считалось важным и нужным. Сотрудницы конторы снисходительно посмеивались над прононсом и грассированием сослуживицы, которые иногда проскальзывали в её речи. К тому же знание иностранных языков в предвоенные годы могло оказаться даже опасным. В 1937 году Месняева со своим мужем — профессором филологии Саратовского университета, который владел пятью европейскими языками, отправились в круиз по Волге до Астрахани и обратно. На их беду на пароходе оказались группы туристов из Германии, Франции и Англии. За обедом и прогулками по палубе супруги разговаривали с иностранцами на их родных языках. Это было простое общение культурных людей. Однако сопровождающие загрантуристов работники соответствующих органов не владели иностранными языками. В своих отчётах они зафиксировали, что Месняевы часто вступали с иностранцами в продолжительные контакты. Фиксация этого факта привела к пагубным последствиям. Профессора по приезде в Саратов арестовали. После нескольких допросов с пристрастием он сознался в шпионаже на немецкую и британскую разведки. Вскоре была арестована Месняева, которая добивалась от правоохранителей, куда подевался её супруг и как ему передать еду и тёплые вещи. За свою настойчивость и пособничество врагам она вскоре отправилась вслед за мужем на Колыму на восемь лет по 58-й статье. Без всякого объяснения через два года её выпустили на свободу, хотя никаких прошений она не писала и уже смирилась со своей участью. В 1956 году её полностью реабилитировали.
После освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков Месняева перебралась в наш город, поближе к своим родственникам, и каким-то образом получила жильё и прописку в коммуналке нашего дома.
Ничто не утаишь в нашем отечестве. Жильцы дома узнали, что Месняева отбывала срок в колонии, вроде бы за шпионаж, но представить себе шпионкой эту женщину не могли. Однако в ту пору считалось: раз сидела, значит, нет дыма без огня, и лучше не вступать с ней в близкие отношения.
Некую отстранённость жильцов Клавочка восполняла общением с детьми. Она умела слушать и говорить с ними. Где бы она ни находилась, детишки тянулись к ней. Муж Месняевой так и не объявился и неизвестно где превратился в лагерную пыль. Однако она не озлобилась, не затаила ненависть ко всем и вся, а смирилась со своей судьбой и считала, что на всё воля божья и виной всему — нелепые обстоятельства. Значит, ей выпала такая тяжёлая доля и нужно стойко переносить испытания и продолжать жить, оставаясь верной своим принципам. Ведь окружающие не виноваты в её бедах.
Бабушка часто приглашала свою подругу в гости. Клавочка всячески отказывалась от угощений, хорошо понимая, что лишних продуктов в семьях в то время не было. Подруга прибегала к хитрости: «Слышать возражений не хочу, — настаивала она, — мне важно знать, как вы оцениваете мои кулинарные способности. Попробуйте перловый супец и котлету». Что сама себе готовила Месняева и готовила ли вообще, никто доподлинно не знал. Однако соседи по запаху пригорелой каши и залитой конфорки газовой плиты определяли: здесь кулинарила странная жиличка. Когда бабушка со своей подружкой чаёвничали у нас, они вели неторопливые беседы о разном, читали стихи и отрывки из поэм Пушкина и Лермонтова, вспоминал поэтов Серебряного века, спорили о персонажах «Войны и мира» Толстого. Из современных писателей они отдавали должное Михаилу Шолохову и восторгались его романом «Тихий Дон». Я слушал эти разговоры и набирался ума-разума. Правда, больше меня интересовало клубничное варенье, и потому многое из их бесед не запомнил. Подружки вспоминали события дореволюционной давности, годы военного лихолетья, случаи из повседневной жизни. Но никогда из их уст я не слышал злых суждений о людях и политических реалиях. Удручало проявление хамства и низкий уровень культуры в обществе.
Бабушка каждый год на несколько месяцев уезжала к своей младшей дочери в Подольск, чтобы помочь в воспитании моих двоюродных сестрёнок. Мама преподавала в институте, и три дня в неделю у неё были вечерние часы, так что в долгие зимние вечера я был предоставлен сам себе. Часто отключали электроэнергию, и пока этого не случилось, я отправлялся искать развлечений на общую кухню.
Из-под двери Клавочкиной квартиры пробивалась полоска света. «Войдите, дверь не заперта, — слышался её спокойный голос на мой робкий стук. — А, это ты, — говорила она, — заходи». Она никогда не ссылалась на занятость. Всякий раз заставал её что-то пишущей, или читающей книгу, или слушающей чёрную тарелку радиоточки. Очень часто в те послевоенные годы по радио передавали классические произведения. «Что, скучно? — спрашивала Клавочка. — Не знаешь, чем себя занять?» Стул в комнате был один, и на нем сидела хозяйка. «Садись сюда, на угол кровати, — усаживала она меня и продолжала: — Если человеку скучно оставаться наедине с самим собой — это свидетельство скудости его духовного мира. Надо больше читать, приобщаться к культуре, слушать классическую музыку. Она затрагивает тонкие струны души человека и формирует его чувства, которые нельзя описать словами».
Я просил её почитать что-нибудь на французском языке. Переливы незнакомой речи с грассирующим прононсом соседки уносили меня во времена мушкетёров, их героических подвигов во имя чести и справедливости.
«Очень важно изучать иностранные языки, — советовала Месняева, — это расширяет культурный кругозор за счёт знания жизни других народов. Но всё же прежде всего надо овладевать отечественным культурным наследием. Читай русскую классику, — и она перечисляла плеяду классиков русской литературы. — Ты из произведений Тургенева, — укоряла она, — знаешь только рассказ «Муму». Почитай его «Записки охотника» и повести. Это же гимн среднерусской природы и галерея истин о русских характеров, особенно женских. Там русский дух, там Русью пахнет, — восклицала она. — Не в этом ли истоки патриотизма и любви к Родине?! Когда я попала в места не столь отдалённые, — откровенничала Клавочка, — от отчаяния меня спасли образы героев, созданные русской литературой». «Расскажите, — просил я её, — как там в заключении?» Клавочка мрачнела и строго говорила: «Тебе это знать не надо. Это за пределами добра. Там прибежище зла, которое растаптывает человеческое достоинство. Для меня самым мучительным был не строгий режим, скученность людей и скудость еды, а вынужденное общение с воровками и падшими женщинами, — продолжала она. — Они избрали для себя развлечение говорить при «зачуханой интеллигентке» непристойности и грязно ругаться. От этого никуда нельзя было деться, и оставалось молча страдать, но не подавать вида, что их слова меня угнетают. От безрезультативности своих стараний мои мучительницы в конце концов оставили меня в покое».
Клавочка задумывалась, вздыхала и с просветлённым лицом восклицала: «Как все это пережила — не знаю! Меня спас мой духовный мир, семейное воспитание и родовые гены». Она поведала мне тайну своего дворянского происхождения. Их род происходил из мелкопоместных дворян Тульской губернии. Он не принадлежал к числу знаменитых и известных. Месняевы получили признание в потомственном дворянстве по чину прадеда прапорщика Петра Ивановича. Клавдия Валериановна показала фамильный герб: в червлёном щите помещался серебряный с золотой рукояткой меч, который проходил через корону. Слева и справа от лезвия внизу расположились две серебряные подковы. Щит сверху был увенчан дворянским коронованным шлемом. Внизу щита на червлёной ленте золотыми буквами было написано «Токмо за совесть».
Месняева герб никому не показывала и просила меня держать все, о чем рассказала, в тайне. Я выполнил обещание и только просил при случае показать мне родовой герб вновь. Созерцание его и хранимая тайна необъяснимо волновали меня.
Клавочка стремилась «выполоть» из моей устной речи уличные вульгаризмы. «Не следует говорить «тикАть», — наставляла она меня, — правильно сказать «убегать». Ещё словечко — «атас». Это из арсенала босяков из подворотни! А вот ещё одно нелепое выражение: «Ну тогда всё», — возмущённо передёргивала она плечами. — Полная бессмыслица! Надо говорить «всё» или «конец»».
Я рассказывал Клавочке о наших уличных играх и забавах, делился своими обидами на сверстников. «Отстаивать свои убеждения и правоту надо не кулаками, а словами и достойным поведением, — советовала она. — Силу надо применять в крайнем случае — если исчерпаны все аргументы для защиты чести и достоинства».
Моим воспитанием занимались: семья, школа, советская действительность, господствующая в те времена идеология и пропаганда, которая больше была обращена к разуму людей и не принимала в расчёт такую эфемерную субстанцию, как душа. Я рос активным октябрёнком, пионером, комсомольцем и убеждённым не до конца атеистом. Однажды — больше для самоутверждения — я заявил Клавочке, что бога нет, а религия — опиум для народа. Она снисходительно улыбнулась и мягко парировала мои слова: «Ты — маленький прагматик-материалист, — сказала она, — считаешь, что если тебе неизвестен адрес, по которому проживает бог, то его нет. А если это дух и обосновался в моей душе? Пусть миф Христос, но миф прекрасный! Разве десять его заповедей — не убивать, не воровать, почитать и уважать родителей, не лгать и прочие — помешают строительству нового справедливого общества рабочих и крестьян?» Я задумался, но возражений на это не нашёл.
Только спустя годы я осознал, что многое в моем духовном становлении и мотивации поступков заложила и Клавочка — совестливая и непритязательная к земным благам женщина. Может быть, сама того не осознавая, она помогала нам, подросткам, за шелухой ритуального словоговорения различать извечное, передаваемое из поколения к поколению восприятие того, что есть добро, а что — зло.
Большую семью Месняевых разметала по всему свету революция 1917 года, гражданская и затем Великая Отечественная война. В Ростове, Москве и Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, у неё остались только внучатые племянники и дальние родственники, да ещё старший брат Григорий Валерианович, в прошлом офицер царской армии. В Первую мировую войну он сражался с немцами в «батальоне смерти», а в гражданскую войну примкнул к белому движению и воевал в полку генерала Маркова. Вынужден был покинуть Родину, которую очень любил и считал себя её патриотом, так, как это понимал. С двадцатых годов он обосновался на жительство в Америке, но сестру не забыл и после войны посылал ей письма и посылки из Америки, с мелкими вещами и подарками с указанием, кому из родственников что предназначается. Месняева уже от себя рассылала заокеанские презенты по указанным адресам. Тем самым она оберегала родных от «порочащих» связей с бывшим белогвардейцем и ныне представителем страны, которая из союзников в войне превратилась во врага.
Судьба не была благосклонна к Месняевой даже по мелочам. Она постоянно попадала в разные истории. То неожиданно из подворотни выскочила собака и разорвала полу её пальто, то на базаре цыганка со словами «Тебе жалко дать детям на хлеб?!» вырвала из её кошелька почти всю месячную зарплату. Однажды Клавдия Валериановна отправилась в Москву к родственникам и пропала. Все заволновались, где она, что с ней. Оказалось, что на полпути в Воронеже в поезде среди пассажиров обнаружилась вспышка сыпного тифа. И всех без разбора, кто ехал в этом вагоне, в том числе и Месняеву, санитарные службы поместили в изолятор. По прошествии карантинного срока Клавдию Валериановну выписали обритую наголо. Она вернулась в Ростов, так и не доехав до Москвы, и некоторое время носила на голове берет с пришитыми впереди локонами, вроде бы выбившимися из-под него. Мне так хотелось посмотреть на её бритую голову, но мама строго осуждала за это намерение.
А вот ещё один сюжет, достойный отдельного рассказа. Оказалось, что Месняева родилась в один день и год с китайским коммунистическим вождём Мао Цзэдуном, у которого приближался очередной юбилей, и по этому случаю готовились торжества в Поднебесной. Что подвигло её на из ряда вон выходящий поступок — никому не известно, но она написала китайскому вождю письмо с поздравлениями от одногодки.
Неожиданно ей пришёл ответ. Большой конверт принесли двое посыльных. Очень серьёзные мужчины с военной выправкой. Они показали ей приглашение от китайского вождя на его тезоименины с гарантией оплаты за счёт принимающей стороны. Однако Клавдия Валериановна в Китай не поехала. Ей вежливо объяснили, что делать этого не следует. А нужно поблагодарить за приглашение и, сославшись на плохое здоровье, отказаться.
Известие о приглашении вызвало переполох и пересуды в нашем доме. После, когда отношения с КНР и нашей страной стали напряжёнными, соседи подшучивали над Месняевой, что она подставила председателя Мао, и теперь его можно обвинить в тайных связях с США через её посредничество, и не проделки ли это ЦРУ.
Время шло. Клавочка вышла на пенсию и доживала свой век в пятиметровой комнате. Она продолжала посещать концерты симфонической музыки в областной филармонии и частенько отдыхала на лавочке в городском саду, как всегда в окружении детворы. Её подруга Зоя Ивановна умерла, а наша семья переехала в изолированную квартиру, но дружеские отношения с Месняевой не прервались, однако встречи наши стали все реже и реже.
Клавочка оставалась верна себе и не обременяла окружающих и знакомых своими проблемами, просьбами, а тем более жалобами. Даже о частых головных болях упоминала вскользь в разговоре. Умерла она внезапно, от инсульта. Жильцы обратили внимание, что несколько дней соседка не выходила из своей комнаты. Заподозрили неладное, вызвали участкового, взломали дверь и обнаружили её бездыханное тело. Врачи зафиксировали, что смерть наступила двое суток назад. Никаких записок и распоряжений покойная не оставила. Денег участковый и понятые не нашли. Умерла Клавочка тихо и незаметно, как и жила. Организацию её похорон никто не захотел взять на себя, так что нависла угроза захоронения её тела в общей могиле, как безродной. На этаже поселились новые люди, плохо знающие покойную. Слава богу, кто-то успел сообщить нам о прискорбном событии, и Месняева Клавдия Валериановна была захоронена на Северном Братском кладбище, как положено, под именем и фамилией.
Как всегда, провожающие усопших в последний путь начинают винить и корить себя в том, что при жизни не уделили им должного внимания, человеческого тепла и участия. Острое чувство утраты и вины пронзило и меня. Я вспомнил мягкие наставления Клавочки, главным из которых было: «Спешите делать добро — жизнь так скоротечна!»
Кто-то из великих сказал, что дух народный по-разному, с различной полнотой выступает как индивидуальная душа человека, и потому он неистребим и вечен вместе с душами людей.
 1,1 м/c
1,1 м/c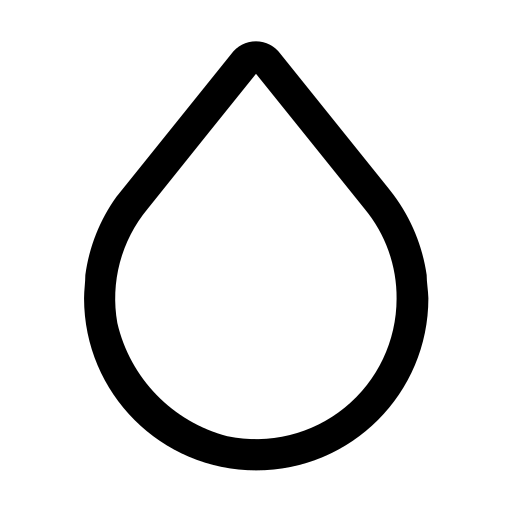 93%
93%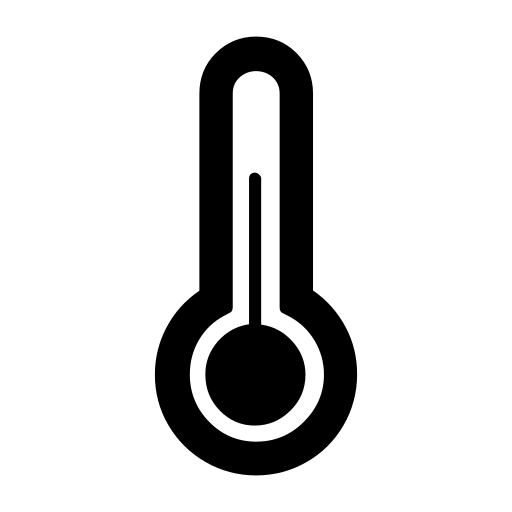 756 мм рт. ст.
756 мм рт. ст.