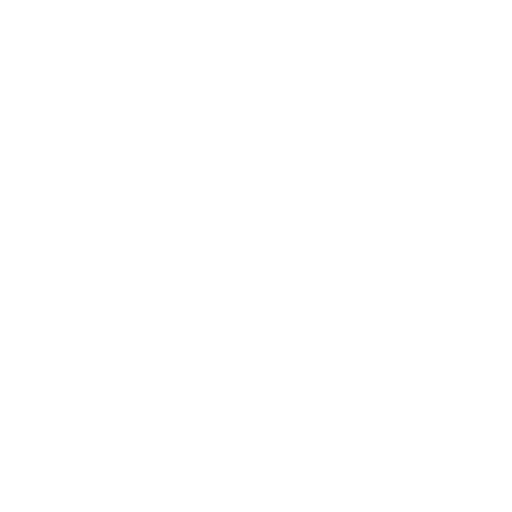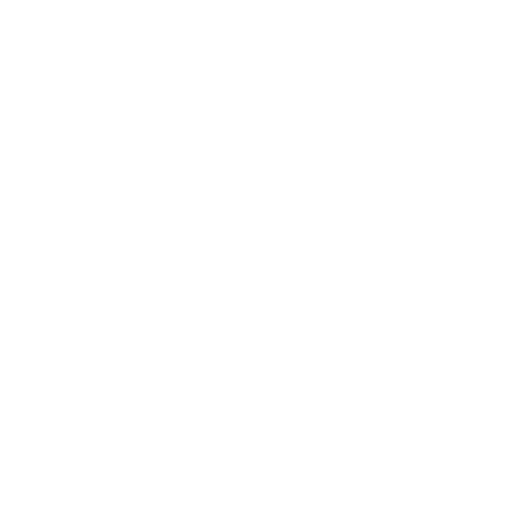Далёкий 1942 год. Окраина оккупированного немцами Армавира. Белые мазанки, утопающие в зелени садов, улица, уходящая в кубанскую степь. Жарко. Солнце стоит в зените и нещадно палит, как будто стремится испепелить все живое.
Со стороны степи, урча моторами, в улицу втягивается колонна немецких автомашин. Впереди три мотоцикла с ручными пулемётами в колясках, за ними легковушка с открытым верхом, далее пять грузовиков, крытых брезентом. Колонна останавливается. У забора нашего дома глушит дизельный мотор самый большой, трёхосный грузовик. Звучит команда — и из машины выпрыгивают солдаты охраны в серо-зелёной униформе и начинают разминать затёкшие ноги.
Из-за штакетника забора за ними испуганно наблюдают пять пар настороженных детских глаз. У их обладателей война украла детство и «наградила» почти взрослым пониманием хрупкости окружающего мира и постоянным чувством незащищённости. Это Женя семи лет, Витя девяти лет — сыновья хозяйки дома тёти Глаши, семилетки близняшки Люда и Вера и я, пятилетний шкет. Девчонки и я — эвакуированные из Ростова. Со своими матерями мы нашли приют в этом доме.
С улицы от водоразборной колонки слышна непривычная чужая речь, шум, смех и плеск воды. Солдаты охлаждают свои разгорячённые головы и шеи. Кто-то уже разделся до пояса, а два арийца под гогот и крики товарищей прыгают под струями воды в чем мать родила. Держатся они без всякого стыда и смущения. Видимо, демонстративно показывают завоёванному населению, что представители высшей расы вовсе не обязаны перед ними соблюдать общепринятые нормы поведения.
К нам во двор заскакивают два молоденьких солдата. Они веселы и энергичны. Ещё бы! Отлаженная машина вермахта неудержимо прёт к Сталинграду, теснит наших на Кавказе. Увидев во дворе столько детей, солдаты куражатся: делают страшные глаза и вопрошают: «Рус золдат? Рус партизан?» Мы отрицательно качаем головами. Немцы говорят: «Гут», — и со спортивной сноровкой залезают на большую шелковицу, ветки которой усыпаны спелыми плодами наподобие темных свисающих гусениц.
Витя, набычившись, молча наблюдает за тем, как солдаты поедают витаминные плоды и наполняют ими свои плоские котелки. Мы, малышня, осмелев, собираем с земли упавшие ягодки тютины, так по-нашему называется шелковица.
«Алярм!» (тревога) — внезапно кричит немец сверху, и тут же раздаётся громкий сухой треск вроде расщепляемого дерева. Немцы гогочут, наблюдая, как детвора разбегается из-под шелковицы. Оказывается, молодой шутник, одетый в солдатскую форму, шумно выпустил из себя дурной воздух.
Но вот котелки наполнены, и солдаты, довольные собой, покидают наш двор. А в калитку протискивается высокий белесый и какой-то рыхловатый немец-обозник из большого грузовика.
— Матка, ком! Шнеля! — властно зовёт он хозяйку дома, а сам вытирает носовым платком пот со лба и шеи.
Появляется из летней кухни тётя Глаша.
— Чего тебе? — не очень любезно спрашивает она непрошеного гостя.
— Матка, курка, яйка, млеко. Давайт-давайт! — безапелляционно требует немец и наставляет на неё толстый указательный палец.
— Давай давно подавился, — отвечает тётя Глаша. — Опоздал. Оглоеды вроде тебя уже все выгребли. Понял?
Тётя Глаша, конечно, говорит не всю правду. В дальнем сарае в клетках под тряпьём спрятаны оставшиеся пять курочек, а петух сидит в тёмном подвале, как в темнице, чтобы не выдал себя криком.
Белесый немец багровеет, топает ногами, пугает:
— Давайт-давайт. Паф-паф!
— Этот паразит просто так не отцепится, — вслух сокрушается тётя Глаша. Она уходит на кухню и приносит в лукошке пять штук сырых яиц.
— На, подавись, — говорит она. — У детей последнее забираешь, ирод.
Немец, шумно сопя, разбивает скорлупу и выпивает их одно за другим. Тряся своим рыхлым задом, он удаляется. Видимо, не очень доволен полученной контрибуцией. Не проходит и минуты, как он опять во дворе.
— Матка, шнеля! Шестног!
— Чего тебе ещё? — удивляется тётя Глаша.
— Шестног! — злится оккупант и топает ногой. — Шестног. Паф-паф!
— Заладил черт-те чего! — почти кричит тётя Глаша. — Не пойму я тебя, гад. Таракана, что ли, из-за печки вымести?
По выражению её лица немец понимает, что русская не может взять в толк, что от неё хотят. Он морщит лоб и через несколько мгновений выдаёт такой перл:
— Шестног — лукин брат. Давайт-давайт!
— Чеснок, — облегчённо восклицает хозяйка. — Так бы сразу и сказал, сукин сын.
Она приносит из кухни головку чеснока и не очень вежливо сует её мимо протянутой руки прямо в его огромный живот.
— На, подавись, чтоб тебе ни дна, ни покрышки.
— Но-но! — предостерегающе рявкает немец. Берёт чеснок и со словами «русиш швайн» убирается со двора.
В щели забора детям видно, как «шестног — лукин брат» лезет в кабину грузовика и опять возникает из неё с толстым портфелем. Щелкает замок — из недр портфеля извлекается бумажный свёрток. Немец разворачивает вощёную бумагу, и нашим взорам предстаёт огромный бутерброд. На толстом ломте белого хлеба размером в две ладони лежат нарезанные квадратики сала с прожилками мяса. Ни с чем не сравнимый запах щекочет наши детские ноздри. Мы непроизвольно глотаем слюну, когда белесый откусывает кусок. Немец размеренно жуёт и прищёлкивает от удовольствия пальцами. Но что-то начинает его беспокоить. Он кладёт бутерброд на бумагу, лежащую на крыле машины, и роется в своём портфеле. Видимо, ищет флягу. Не найдя её, опять лезет в кабину.
И тут неожиданно для всех Витька, самый старший из нас, как лунатик, отслоняет штакетину и шагает за забор. Какой-то миг он стоит перед бутербродом, затем хватает его обеими руками, прижимает к груди и ныряет назад. Штакетина опускается на своё место, и мы, отбивая дробь босыми пятками, несёмся за ним в дальний конец двора, где вырыт зигзагом окопчик — убежище от бомбёжек. Там, в полутьме окопа, в один миг бутерброд растерзан. Как голодные галчата, мы глотаем его куски, не разжёвывая.
А во дворе уже разворачивается шумная драма. Разъярённый обозник клацает затвором карабина и кричит, что сопливые бандиты украли у него бутерброд, что эти выродки диких славянских племён начинают воровать уже с пелёнок, и потому их надо уничтожать в зародыше, и что сейчас он по законам военного времени проведёт показательный расстрел всех, кто живёт в этом доме, за оскорбление солдата вермахта и воровство провианта.
Тётя Глаша не понимает немецких слов, но сердцем осознает опасность, которая нависла над всеми. Она цепляется в немца мёртвой хваткой, голосит во весь голос и умоляет пощадить неразумных детей, которые не ведали, что творили.
Неизвестно, чем бы это всё кончилось, но тут звучит спасительная команда: «По машинам!» Ревут моторы. Немец, изрыгая проклятия, со всей силой отпихивает тётю Глашу так, что она падает на дорожку. Сам он выскакивает на улицу и при этом с мясом вырывает калитку. Колонна машин уезжает.
Через некоторое время, побитые, зарёванные и зацелованные, мы как ни в чём не бывало бегаем по двору и радуемся, что всё обошлось. В животах у нас приятная тяжесть от перевариваемой пищи, а Виктор с мстительным чувством уверяет нас, что злой и голодный немец наверняка перевернётся со своей машиной где-нибудь в пути.
 0,9 м/c
0,9 м/c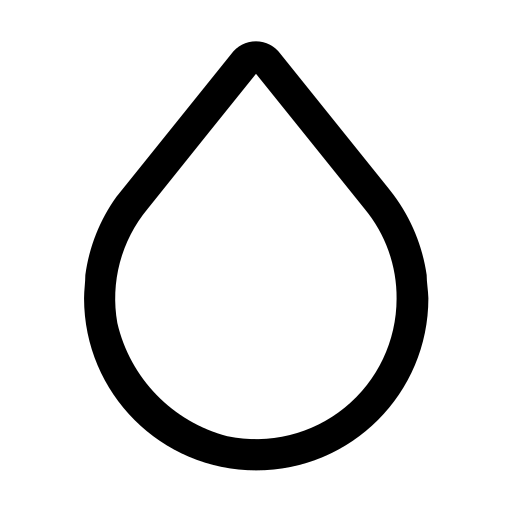 93%
93%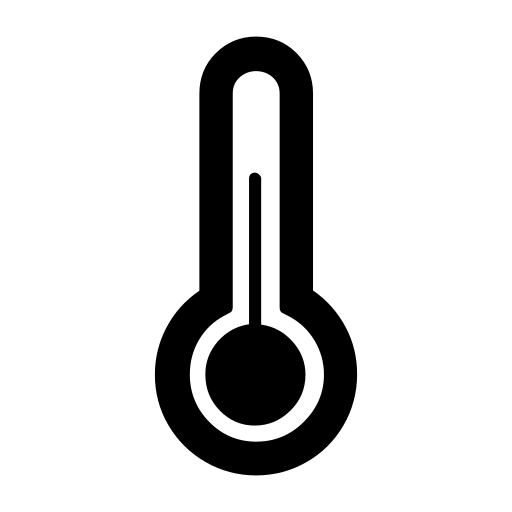 757 мм рт. ст.
757 мм рт. ст.